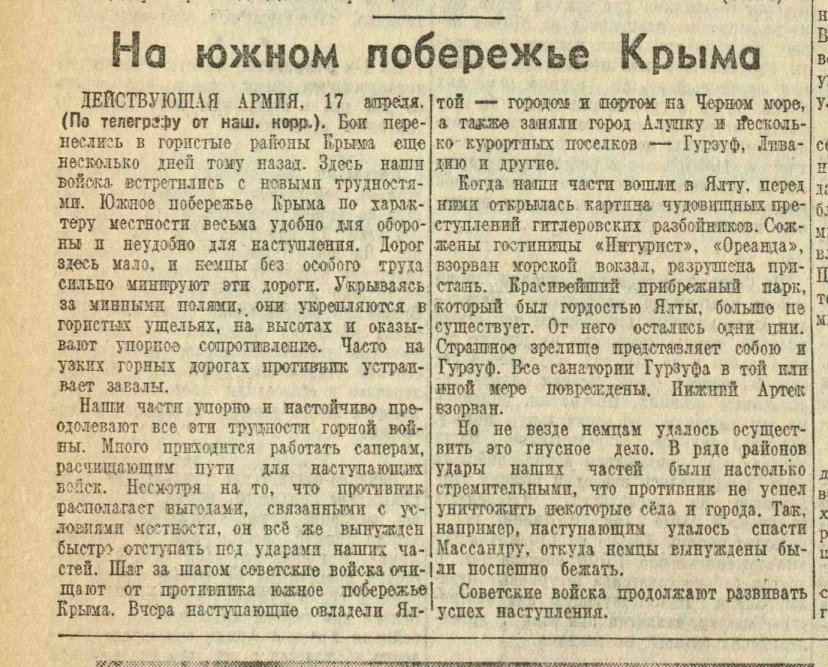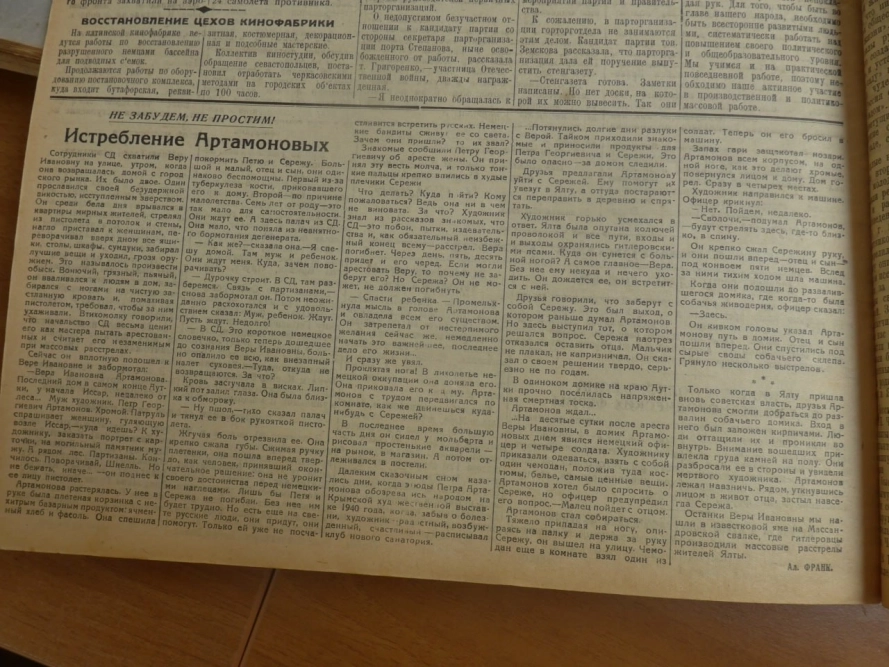15 апреля 1944 года войска Красной армии освободили Алушту. В город они вошли днем, накануне Пасхи. Многие горожане это так и восприняли: случилось чудо Господне...
Ключ к ЮБК
Продвижение к маленькому южнобережному городу было нелегким. Наступать пришлось по горному шоссе с извилистыми поворотами. Участки дороги были заминированы, а румынский полк устраивал на пути следования засады.
Впереди колонны шли саперы — они не только обезвреживали заминированные участки, но засыпали изуродованную бомбежками дорогу — чтобы могла пройти техника.
В город первыми вошли 339-я стрелковая дивизия танковое подразделение и 26-я бригада самоходно-артиллерийских установок. Одновременно с наступлением войск в город пошли партизаны — 4-я бригада Южного соединения партизан Крыма под командованием Христофора Чусси.
Немцы не успели эвакуировать все свои части из Алушты. В посту оставались баржи с солдатами и предназначенным к вывозу имуществом. Уйти им не дали. Артиллеристы успели установить орудия, направив их в сторону порта и набережной — и били по врагам прямой наводкой.
Улицы города, писала фронтовая газета «Вперед за Родину», были захвачены брошенной техникой — тягачами, машинами, пушками. Алушта было «ключом» для освобождения Южнобережья.
Свои воспоминания об этом дне, опубликованные на сайте ЯПомню, оставил уроженец Большой Алушты Петр Гаранин. Тогда ему до восемнадцатилетия оставалось чуть меньше месяца. Еще в марте алуштинских подростков от четырнадцати лет собрали и увезли в Симферополь, в страшный концлагерь «Картофельный городок». 11 апреля заключенные проснулись — и не обнаружили охраны. Она разбежалась — испугалась наступления Красной Армии, хотя ее части в город войдут лишь два дня спустя. Петр решил пробираться в родную Алушту. Шел два дня.
«В городе, когда я пришел, еще оставались немцы, но они уже отступали в сторону Севастополя, — делился он. — Пришли наши солдаты 15 апреля 1944 года. В тот день стоял такой туман, что ничего не было видно, и до обеда мы ничего не видели, а наши пришли утром. Причем утром в городе воцарилась абсолютная тишина, потому что еще до полуночи немецкие войска уже полностью отступили, и на улице перестали раздаваться какие-либо звуки. А где-то к полудню в Алуште стали раздаваться какие-то выстрелы и крики... Мне и бабушке стало сразу же понятно, что это наши освободители пришли. И к часу дня солнышко из-за облаков вышло, стало очень светло и хорошо на душе, а по дороге мимо нашего дома пошли колонны советских солдат на Севастополь».
Запомнилось Петру, как целый день шла пехота по улице, в дом то и дело заходили солдаты — просили напиться. В тот день юноша увидел и партизан — «в гражданской одежде, разношерстные, но все с винтовками и автоматами. Они выглядели еще более голодными, чем солдаты, оно и неудивительно, им в лесу хорошо досталось».
До войны в Алуште жили около 9,5 тысяч человек. К моменту оккупации оставалось вряд ли больше 5,5-6 тысяч. Сколько погибло от голода и болезней, неизвестно. А вот убит оккупантами был каждый 12-й житель. За пять дней до освобождения в Никитском ботаническом саду были расстреляны 48 алуштинцев — за то, что читали газету «Красный Крым». Самому молодому — Анатолию Бородаеву, было 16 лет.
Из акта о зверствах немецко-фашистских захватчиков, ущербе и убытка в г. Алуште:
«Разрушены почти все здания курортов и домов отдыха Алушты. Из 168 зданий курортного фонда разрушено и сожжено 134. Сожжено здание РК ВКП9б) и райисполкома, горсовета, Госбанка, кинотеатр, разрушены Дом культуры им. Чкалова, здание средней русской школы, городская водолечебница, Дом связи и юр. Стоимость причиненных убытков только по санаториям Алуштинского района составляет 42 млн рублей».
Светлое воскресенье
Официальный день освобождения Ялты — 16 апреля. Но сохранились свидетельства жителей города о том, что накануне поздно вечером части Красной армии уже были здесь.
Переживший оккупацию бухгалтер Крымского оползневого управления Николай Дешкин все эти годы вел подробнейший дневник. Каждый день записывал то, чему сам был очевидцем, что переживал — и рассказы знакомых, друзей, соседей.
Про вечер 15 апреля он оставил вот такую запись: «В 11 ч. В конце Виноградной взвилась ракета, через несколько минут — ближе вторая, послышался крик ребятишек: «Ура!». Против Екатериненской улицы третья ракета и шум танка. И, затем, через некоторое время, эта же машина, изредка пуская ракеты, пронеслась обратно по Набережной. Как ни удивительно, но это была Красная армия».
Есть записи про освобождения Ялты и в другом интересном документе, известном как «Дневник неизвестного». Автор не указал своего имени и фамилии, использовал для записи дореволюционную кассово-приходную книгу Симферопольского отделения Петербургского коммерческого банка. Жил он, судя по всему в одном из пригородов города. 15 апреля для него стало тревожным: слышались взрывы, выстрелы. Он увидела, как из леса показалась вереница бегущих людей — партизан. Вспоминал туман и город, где весь день слышались выстрелы орудий и «ружейная трескотня».
А на следующий день он сделал такую запись: «Светлое воскресенье — но необычное. Не раздавалось церковного звона... Спали спокойно».
Военкор «Красной звезды» в переданной по телеграфу заметке описывал разрушения, увиденные в Ялте: «Сожжены гостиница «Интурист», «Ореанда», взорван морской вокзал, разрушена пристань. Красивейший прибрежный парк, который был гордостью Ялты, больше не существует. От него остались одни пни. Страшное зрелище представляет собою и Гурзуф. Все санатории Гурзуфа в той или иной степени повреждены. Нижний Артек взорван».
Но все это было видимой трагедией города. А скрытая стала известна чуть позже. Выявлялись и вскрывались места массовых расстрелов, люди пытались установить судьбу близких, становили известными чудовищные факты зверств фашистов.
Ялтинцев поразила, например, трагедия семьи талантливого художника Петра Артамонова. Его жену, Веру Ивановну, арестовали и отправили в СД, обвинив в связи с партизанами. На руках больного костным туберкулезом художника остался семилетний сын Сережа. А потом фашисты пришли в его дом, приказали собрать вещи — но чемодан немецкий офицер забросил в свою машину. А Артамоновых довел до полуразрушенного «собачьего домика» — места, где когда-то держали и уничтожали бездомных псов. До этого места друзья художника добрались сразу после освобождения города. Разобрали завал из досок и камней, нашли внутри убитых мужчину и мальчика. А останки Веры Артамоновой отыскали в известковой яме на Массандровской свалке — среди других расстрелянных.
Кстати
В крымских городах есть улицы, названные в честь дня освобождения от немецко-фашистских оккупантов:
- 13 апреля — в Симферополе и Старом Крыму,
- 15 апреля — в Алуште,
- 16 апреля в Массандре (Большая Ялта).
- в Евпатории в 1975 году улицу Старовокзальную переименовали в честь воинского подразделения, освобождавшего город: 2-й Гвардейской армии.